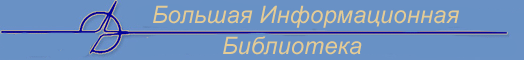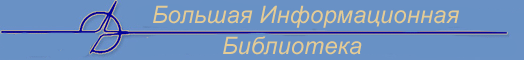Статья: От бабочки к мухе: два стихотворения Иосифа Бродского как вехи поэтической эволюции
Росинка
нам являет,
Она
кругла — хранит она
Подобье
сферы той, где рождена.
<…>
Душа
ведь тоже — капля, луч,
Ее
излил бессмертья чистый ключ,
И,
как росинка на цветке, всегда
Мир
горний в памяти держа,
Она
<…>
Смыкает
мысли в некий круг, неся
В
сей малой сфере — сами небеса.
(«Капля
росы», пер. Д.В. Щедровицкого)
Разительное
сходство «Бабочки» с поэзией барокко, впрочем, сочетается с не менее сильным
контрастом. Барочные стихотворцы превращали живые существа в бездыханные
эмблемы посредством их препарирования и «насаживания» на острия метафор.
Бродский, делая мертвую бабочку объектом философской медитации, как будто бы
дарует ей вторую жизнь. В пальцах поэта «бьется речь / вполне немая, / не пыль
с цветка снимая, / но тяжесть с плеч». Немая — записанная, но не произнесенная
речь уподобляется беззвучию бабочки, и живой бабочкой слово трепещет в пальцах.
Воскрешая мертвую эфемериду, поэт — вопреки, казалось бы, непреодолимой
пропасти между ним и Творцом, тоже становится создателем новой жизни — в слове,
в метафоре. «Человек как сознательный носитель языка обязан бороться с временем,
которое создает бессмыслицу и небытие. Язык — его единственная надежда»
(Polukhina V. Joseph Brodsky. P. 187). Как утверждает Валентина Полухина, «Бродский
видит в человеческом творчестве средство облегчения бремени существования»
(Ibid. P. 189). Согласимся с этим суждением — с одним уточнением: не просто
человек, а поэт. И именование Бога искусным мастером («ювелиром»), и сближение
Творца с художником — композитором, поэтом — восходят к эстетике барокко.
Подобно
средневековым сочинениям о животных — латинским бестиариям, греческому и
древнерусскому «Физиологу», «Бабочка» доказывает бытие Творца через
совершенство и невообразимую красоту его творения. С одним, но огромным
отличием: легкокрылое создание свидетельствует не о благе мира, а о шутке
Ювелира:
Сказать,
что ты мертва?
Но
ты жила лишь сутки.
Как
много грусти в шутке
Творца!..
Божий
мир, утверждает автор «Бабочки», бесцелен. Или — не человек является целью и
венцом творения:
Такая
красота
и
срок столь краткий,
соединясь,
догадкой
кривят
уста:
не
высказать ясней,
что
в самом деле
мир
создан был без цели,
а
если с ней,
то
цель — не мы.
Друг-энтомолог,
для
света нет иголок
и
нет для тьмы.
Как
же это непохоже ни на бестиарии, ни на поэзию английских метафизиков.
Процитирую лишь одного из них: «Мир из конца в конец / Нам служит, покорясь»;
«Суть мира в нас отражена <…> Всех человек затмил / Величьем, получил на
все права <…> Да, человек есть малый мир <…> Лишь в нас — причина и
конец, / Нам всюду приготовлен щедрый стол / И радостей ларец»; «Все вещи нам
даны» (Джордж Герберт, «Человек»? пер. Д.В. Щедровицкого).
Полтораста
лет спустя об этом же с незаемным восторгом скажет Державин в духовной оде
«Бог», в собственном «я», а не в существовании ничтожных насекомых находя
доказательства бытия Божия и благости Зиждителя:
<>
А
сам собой я быть не мог.
А
для автора «Бабочки» само бытие Творца, в начале стихотворения признаваемое, в
финале становится сомнительным:
Ты
лучше, чем Ничто.
Верней:
ты ближе
и
зримее. Внутри же
на
все сто
ты
родственна ему.
В
твоем полете
оно
достигло плоти;
и
потому
ты
в сутолке дневной
достойна
взгляда
как
легкая преграда
меж
ним и мной.
Мертвая
бабочка, парадоксальным образом символизировавшая манящую и притягательную
жизнь и сверхъестественное искусство Божественного Ювелира, превращается в знак
небытия, его материализацию, непостижимую умом. (Весьма многозначительно, что
поэт отсекает от образа бабочки смыслы, восходящие еще к античности и связанные
с вечной жизнью, с посмертным существованием души.) Конечно, «Ничто» — одно из
именований Господа в так называемом апофатическом, или отрицательном
христианском богословии: согласно ему, Бог превыше всех определений и потому
«Ничто» — наиболее уместное, хотя и «неподобное» для Него обозначение. Но, боюсь,
для такого узкого толкования нет оснований: «Ничто» может напоминать и о
буддийской Нирване, и о самых разных философских учениях о небытии — в том
числе и о тех, где оно лишено каких бы то ни было ценности и смысла.
Спустя
тринадцать лет после «Бабочки», в 1985 году, ее автор вновь обратился к миру
насекомых. Вместе с «Бабочкой» «Муха» образует причудливую стихотворную пару —
двойчатку. (Парные тексты нередки у Бродского.) Два текста — как два
причудливых и асимметричных крыла — бархатное, узорчатое и прозрачно-бесцветное,
слюдяное — одного существа. Оба текста — обращения к насекомым, к мертвой
бабочке и к обреченной на смерть осенней мухе. Оба — философические медитации
на темы жизни и смерти. В «Мухе» графика тоже изобразительна: контуры
составленных из строф фрагментов (названных Михаилом Лотманом «гиперстрофами»;
см.: Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russian Literature. 1995. Vol. 37.
No 2/3. Ed. by V. Polukhina) подобны очертаниям этого насекомого. (При этом
строфы «Бабочки» и «гиперстрофы» «Мухи» состоят из равного числа строк —
двенадцати.) Изобразительными становятся и постоянные межстиховые и
межстрофические переносы, несовпадения рамок строки и синтаксических границ:
«Так материализуется упорство насекомого, которое (подобно преодолевающему
границы строки, строфы речевому потоку) сопротивляется метафизической (смерть)
границе» (Степанов А.Г. Типология фигурных стихов и поэтика Бродского. С. 261).
Бабочка — «мысль». Но в русской поэзии задолго до Бродского муха тоже была
уподоблена мысли, причем мысли о смерти: «Мухи, как черные мысли, весь день не
дают мне покою <…> Ах, кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!». Это
неожиданное сопоставление повторил Иннокентий Анненский в стихотворении «“Мухи,
как мысли”», посвященном памяти Апухтина.
Два
текста, «Бабочка» и «Муха», тем не менее, схожи не больше, чем драгоценная
эфемерида и ее неказистая, но назойливая товарка. Прежде всего, в «Бабочке» 168
строк с короткими двух- и трехстопными ямбическими строками, с чередующимися
мужскими и женскими рифмами. «Муха» ощутимо длиннее — в ней 252 стиха, причем
возросла и протяженность строк: часть из них — четырех- и пятистопные. И все —
с однообразными, монотонными рифмами — только женскими. Восприятие тонет в
почти бесконечном длинном тексте, путается в межстиховых переносах, в тенетах
извивистого, нарочито «бродского» синтаксиса. Как муха в паутине. Ощущение
уныния, тоски, забарматывающейся, «жужжащей» речи.
Тянется
перебор словесных уподоблений: муха и «юнкерс», муха и черно-белый фильм, цокотуха
и буква «Ж», насекомое с шестью лапками и шестирукий Шива… Не в пример бабочке
муха ничем не удивляет, на ее крылышках нет таинственных узоров, окрас ее
тельца сходен с цветом чернил и печатных букв. Она по-своему красива и даже
изысканна, ажурна, как создание Эйфеля: «Как старомодны твои крылья, лапки! / В
них чудится вуаль прабабки, / смешавшаяся с позавчерашней / французской
башней…». Однако загадки в ней нет, и описать ее легко. Бабочка, спеленатая
тенетами барочных парадоксов, разрывала их, слетела с иголок метафор, паря над
ними и оставаясь непостижимой. Муха, остановленная пальцем и взглядом поэта, лишена
многозначности символа. Перед бабочкой поэт благоговел, почти молитвенно
преклонялся. К мухе он таких чувств не питает: это старая знакомая, «подруга», «милая»,
себя поэт панибратски именует ее «корешем».
Мертвая
бабочка исполнена манящей тайны жизни, полусонная, вялая муха жива, но
беременна смертью и ее олицетворяет. Бабочка многоцветна, как живописное
полотно. Муха полностью или почти монохромна, она «умирает в черно-беломили
сером мире, похожем на ранние немые фильмы, где черно-белый монтаж реализует
перескакивающий характер мушиных зигзагов» (Hansen-Löve A.A. Мухи — русские,
литературные // Studia Litteraria Polono-Slavica. Warszawa, 1999. T. 4. Р. 98, выделено
в оригинале). Так и «цокотуха» Бродского, «потерявши юркость», выглядит, «как
черный кадр документальный / эпохи дальней».
Плоть
бабочки была невещественной, муха – насекомое, превращаясь в «белую муху», в
слетающую с неба снежинку, свидетельствует, «что души обладают тканью» (III;
106). Но, кажется, это единственное открытие, что она могла нажужжать поэту.
В
этой череде контрастов самым сильным было бы приписывание «мухам признаков
жителей в аду и бабочкам — качеств возрожденных душ» (Ibid. Р. 97.). Но эти
свойства давно приписаны двум насекомым в мифологии и поэзии, и автор двойчатки
отказывается от такой простой и предсказуемой антитезы. Муха у Бродского не демонична,
она насельница гротескного «мушиного рая».
Начальные
строки стихотворения — отголосок хрестоматийной крыловской басни «Стрекоза и
Муравей»:
Пока
ты пела, осень наступила.
Лучина
печку растопила.
Пока
ты пела и летала,
похолодало.
Это
крыловская Стрекоза «лето красное пропела, / Оглянуться не успела, / Как зима
катит в глаза». Эхо крыловского текста нужно Бродскому, чтобы придать
изображаемой ситуации: немолодой человек, разглядывающий вялую муху, медленно
ползущую «по глади / замызганной плиты», — предельную обобщенность, философическую
бытийность. Только не в пример басне «Муха» ничему не учит, — кроме, может быть,
искусства приготовления к смерти.
Различима
в стихотворении и тайнопись, при первом приближении выглядящая сокровенной
аллюзией на все тот крыловский текст:
Нас
только двое:
твое
страшащееся смерти тельце,
мои,
играющие в земледельца
с
образованием, примерно восемь
пудов.
Плюс осень.
Страницы: 1, 2, 3, 4 |