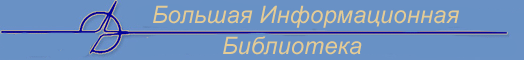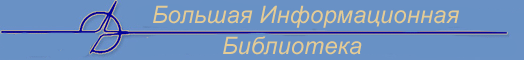Реферат: «У ваших ног я признаюсь!»
У
Руссо, а в русской литературе у Тургенева, Достоевского в отношениях между
мужчиной и женщиной первичным оказывается не желание и даже не мысль об
обладании, не они являются источником чувства, а размышление о свободе или
несвободе его осуществления. Действующие лица примеривают костюмы непонятого
гения, одинокого мечтателя, философа-мизантропа, но сюжет любовного объяснения
или подтверждает, или опровергает истинность подобной самоидентификации,
сохраняет или трансформирует изначальные представления героев о себе.
В
романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» интенсивность
эмоции проявляется в апологии самогрешности, многословные монологи проникнуты
стремлением так организовать психологический дискурс, чтобы представить себя
ответственным за порочность мира. Экстремальные проявления переживаний
обусловлены ожиданием надвигающейся трагедии: «Тебя люблю, тебя одну, в Сибири
буду любить...» – клянется Митя Карамазов Грушеньке. Любимая женщина
воспринимается как этическая парадигма, средоточие чистоты в объекте, временно
пребывающем в грехе; герои Достоевского убеждены, что можно осквернить тело, но
не душу, и в этой уверенности апеллируют к априорной моральности, неизменяемой
ни временем, ни обстоятельствами. Объект любви заполняется собственными представлениями
о прекрасном, и в этой инсценировке истины находятся все участники диалога, а
поступки, разрушающие идеальную концепцию, списываются на болезненность: «...вы
страдали и из такого ада чистая вышли», – восклицает Мышкин, – «К чему же вы
стыдитесь да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка...».
Наличие
идеальной духовности для героев Достоевского подразумевает ее перенесение на
страдающую душу. Чистота девичества не может удостоверить бытийную
выразительность героини. Предлагается культовое изображение порочной красоты,
соответствующей модели восприятия персонажами самих себя. Установка на
страдание как способ выявления собственной сущности побуждает реабилитировать
героиню, прошедшую испытания, недоступные героям-мужчинам.
Портретирование
любви к публичной женщине осуществляется публичными формами признания, когда
участники предстают перед заинтересованными в исходе объяснения
зрителями-комментаторами. Эстетическая кощунственность мизансцен («...При
последних словах (Мышкина, обращающегося к Настасье Филипповне) послышалось
хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с
большим неудовольствием. Птицын и Тонкий не могли не улыбнуться, но сдержались.
Остальные просто разинули рты от удивления») состоит в соотнесении произнесения
сакрального обещания и гротескного рецептивного отображения-реакции.
Самопредставление, не комментируемое извне, присущее объяснению в любви
девушке, может редактироваться лишь автором, не позволяющим себе озлобленных
инсинуаций в адрес персонажа. В сюжете обращения к публичной женщине ситуация
выведена из интимной автономности и инсценируется в соответствии с фарсовым
ритуалом. Порочно-телесное и словесно-духовное, вынесенные на авансцену,
освещаются как экспонат, который можно и нужно обсуждать и комментировать
экспрессивными репликами, мимикой, жестами, негодованием или одобрением
междометий.
Необходимость
реакции на факт объяснения чувств проникает даже в эпистолярный жанр. Лиза
Хохлакова, относящаяся к иному типу героинь, испытывает влияние мотива театрального
«овнешнения» эмоции, в ее письме присутствует деталь, об этом
свидетельствующая. Экспозиция ее обращения к Алеше отмечена традицией жанра
(«...я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце,
а этого никто, кроме нас двоих, не должен до времени знать»), указывающей на
существование тайны двоих, но развитие данного тезиса не может происходить в
отрыве от текстовой памяти публичного объяснения-исповеди: появляется еще один
участник псевдодиалога, по-своему реагирующий на признание: «Бумага, говорят,
не краснеет, уверяю вас, что это неправда и что краснеет она так же точно, как
и я теперь вся».
Взаимопроникновение
сюжетов разрушает привычную логику темы ревности в романах Достоевского,
традиционно иллюстрируемую конфликтом порока и невинности: Аглая – Настасья
Филипповна («Идиот»), Катерина Ивановна – Грушенька («Братья Карамазовы»), Катя
– Наташа («Униженные и оскорбленные»). Любовь из понятия себя-созерцания
переходит в категорию тебя-восприятия, дух, замкнутый до этого в себе,
овеществляется, становясь публичным объектом. Сентиментальная стеснительность,
романтическая таинственность упраздняются, таинство выставляется на всеобщее
обозрение, и в цепи культурных приращений торжественная декларация чувств
начинает восприниматься такой же естественной, как неозвученные слова любовных
писем, попадая на территорию интимного откровения, и герой-мужчина начинает
вести себя иначе, наученный опытом публичных декламации, он перестает описывать
прелести возлюбленной, а истово отстаивает собственные представления по
многообразным философским предметам. Романтизм уже внес свою деструктивную
лепту в разрушение целей объяснения в любви. Возможность матримониальных
отношений как-то перестает учитываться участниками диалога. В туманной перспективе
видится счастье, а в практической – тюрьма и ссылка.
В
сюжете объяснения прослеживаются две тенденции. Во-первых, он задается как
антитеза свободы европейских романтических нравов, это не всегда
осуществляется, но в идеале процедура моральных обязательств и этических
условий видится основной. Во-вторых, порыв чувства облекается в риторику
завещания. Почти все сюжеты признания представляют исповедь парадаксолистов,
добросовестный пересказ страданий, каталог-эпитафию несбывшихся желаний и
утрат.
Сама
фактура объясняющейся в любви личности побуждает искать оправдания ее
несчастий. Появившийся в литературе в облачениях «русской хандры» персонаж к
середине века достиг изумительного мастерства в создании ситуации – учитель –
воспитуемая, оратор – слушательница, непризнанный гений – смиренная
почитательница – и в умелом ее режиссировании, корректируя сценарий «люблю –
прошу вашей руки» на «люблю – но ввиду бесконечных причин жениться не могу»
(Рудин, Волохов, Алеша Верховенский, Нехлюдов, Алехин, Лаевский...). Сделав
одиночество и разочарованность своим вторым «я», он заставляет не только
героиню, но и читателя сопереживать возвышенным страстям, и исповедь-проповедь
обязательно возымеет свое действие. Покорная в приятии неизбежного
слушательница будет далека от негодования и ощущения обманутости. Объяснение
подобной ситуации заключается в том, что сама героиня не извлечена из сферы
отношений, породивших рефлексирующее сознание; она, как и читатель, уведомлена
в жесточайшем воздействии эпохи на несчастного, во всяком случае она интуитивно
постигает причины его непохожести на окружающих и истоки эгоцентризма. Прощая и
смиряясь, героиня созидает тем самым одну из ипостасей мифа русской женщины.
Онегин
и Лаврецкий вымаливают любовь, стоят на коленях, осознавая всю торжественность
момента и ответственность события, даже не самого факта признания, а более
глобального; они находятся в сфере формирования национальной мифологии. Какие
бы ни были сюжетные результаты, они прежде всего удовлетворительно
соответствуют фабульным формулам культуры. Онегин отвергнут, но создается образ
самоотверженной Татьяны; Лаврецкому отказано в чувстве – формируется тип
тургеневской девушки. Каждое событие вписано в партитуру культуры, в
соразмерность невидимых из конкретного произведения, но осознаваемых текстовой
памятью этического, эстетического и философского начал, «случайность» события
детерминируется общелитературной моделью.
Это
вовсе не означает, что подобным трансцендентальным знанием обладает только
русская словесность. Каждой национальной культуре присущи свои понятийные
комплексы, организующие конкретные тематические построения. Однако
отечественная художественная мысль и ее этические приоритеты во многом
воплощаются и сконцентрированы в мотиве любовного объяснения, локальной парафразе
мифа русской женщины.
В
различных по тематике произведениях отмечается тождественное психологическое и
риторическое поведение объясняющихся в любви персонажей. Двойственное состояние
внутреннего мира, пограничность ситуации между мыслью и поступком вызывает
эхолалический эффект в сцене признания. Анна: «Я не знала, что вы едете. Зачем
вы едете?». Вронский: «Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза...».
Близкий тип преодоления отчуждения между участниками сцены любовного свидания –
словесная беспомощность, косноязычие, обращение к местоименно-глагольным
фигурам: «Наталья Алексеевна! – заговорил он трепетным шепотом, – я хотел вас
видеть... я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать...».
Построение фразы у Рудина, как и у большинства героев русской литературы,
является импликацией внутренних противоречий – эгоцентрической мысли («я») и
жажды активной самореализации («хотел» – «не мог» – «должен»). Данные текстовые
решения основаны на постоянной репродукции варьирующихся в пределах заданной
доминанты речевых случаев, характерных для героев Пушкина, Тургенева, Толстого,
Чехова.
Пушкин,
а затем Тургенев дифференцирующим элементом композиции признания делают
вынужденный диалог. Герой, уже получивший ответ, настаивает на повторении
сказанного. Чувственное восприятие требует подтверждения в словесной сфере.
Недоверие к слуху интерпретирует мотив неверящих глаз, что репрезентирует
текстовую память о метафизическом неумении прочитывать знаки судьбы. Подобное
соответствие, замещение сюжетных моментов указывает на синтез способов
изложения и познания, объединенных в символической экспрессии сцены, столь
необходимой для установления конвенции частного и приоритетного для культуры.
Можно
заметить, что внутренняя архитектоника эмоций, развивается по вертикали не
только в смысле задействованных многообразных реалий в структуре любовной
клятвы (перечисление аргументов, доказательств фатальности чувства, система
сравнений и убеждений...), но и в конструировании антитезы; любовь
противопоставлена ряду явлений и понятий, которые отрицаются как незначащие,
подтверждая центральное положение чувства. Герои аллегоризируют свое отношение
к женщине, возводят ее в культ, наполняют символическим значением вечности.
Классические образцы структуры пассажей интимной риторики воспроизведены
Пушкиным в «Метели»: констатация – «Я люблю вас... я вас люблю страстно...»;
объяснение причин – «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке,
привычке видеть и слышать вас ежедневно...»; обобщение/прелюдия основной темы,
могущей разрешиться повторным признанием, либо послужить источником
исповеди/разрыва – «теперь уже поздно противиться судьбе моей...». Композиция
чувства не перегружена аллегориями, как это случалось в аналогичных по тематике
текстах XVIII века, понятийная содержательность оперирует образами времени,
повторяемости, судьбы, обеспечивающих гармонию между инстинктивным
(показательный пример развития традиции из «Обломова»: «Нет, я чувствую... не
музыку... а... любовь!» – тихо сказал Обломов... Ольга поняла, что у него слово
вырвалось, что он не властен в нем и что оно – истина») и предопределенным.
Страницы: 1, 2, 3, 4 |